Об авторе
Марк Алданов (урождённый Марк Александрович Ландау; Алданов — анаграмма, ставшая затем из псевдонима настоящей фамилией; 26 октября (7 ноября) 1886, Киев — 25 февраля 1957, Ницца) — русский прозаик, публицист, автор очерков на исторические темы, философ и химик.
Родился в интеллигентной и состоятельной еврейской семье Александра (Израиля) Марковича Ландау и Софьи (Шифры) Ивановны Зайцевой ( дочь известного киевского сахарозаводчика Ионы -Мордко Зайцева ).Окончил университет в Киеве (два факультета — физико-математический и юридический), затем много учился и работал в Западной Европе; увлёкся европейской историей, познакомился с некоторыми свидетелями эпохи (в частности, императрицей Евгенией) и политиками. Посетил также Северную Африку и Ближний Восток. Начало Первой мировой войны встретил в Париже, затем вернулся в Россию. В России работал в основном по специальности химика, автор многих публикаций в области химии. В 1915 году издан первый том критико-литературного сочинения «Толстой и Роллан». По замыслу автора, работа должна была быть посвящена сопоставлению двух писателей, но в первом томе речь шла в основном о Толстом, а рукопись второго, посвящённого Роллану, во время революции и гражданской войны пропала; поэтому Алданов впоследствии переработал в эмиграции первый том и переиздал его под названием «Загадка Толстого». Начало деятельности с работы о Льве Толстом не случайно — несмотря на существенные философские разногласия, Алданов на всю жизнь остался поклонником творчества и личности Толстого, под влиянием которого во многом создавались его исторические романы. Российское издание осталось мало замеченным критиками.
В 1917 и 1918 Алданов выпустил «Армагеддон» — две книги диалогов между «Химиком» и «Писателем» на общественно-политические и философские темы. Здесь уже вполне обозначились основные черты его творчества: основанная на огромном историческом опыте скептическая ирония по отношению к государственной деятельности, войнам, нравственному прогрессу человечества, признание огромной значимости роли простого случая в истории; вместе с тем вера в высшие ценности — «Красоту-добро».
А.А.Павловский "Об Алданове"
Алданов Марк (настоящее имя Марк Александрович Ландау) [26.10(7.11).1886, Киев — 25.2.1957, Ницца] — прозаик.
Максим Соколов "Творческий реакционер"
Опубликовано: Коммерсантъ-Daily No 20 27.2.97
страничка на википедии



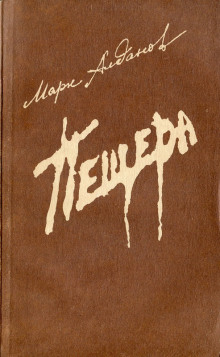

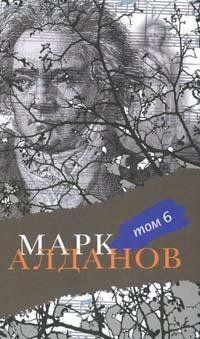
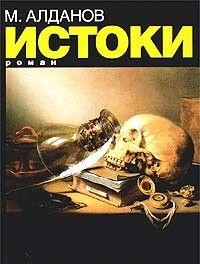
Комментарии и оценки к книгам автора