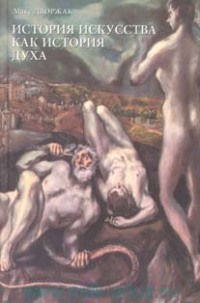
Аннотация
Книга выдающегося австрийского искусствоведа Макса Дворжака (1874-1921) — классическое исследование средневекового европейского искусства, не утратившее своего значения и по сей день. Автор рассматривает средневековую культуру как целостный феномен, уделяя много внимания философским и историко-социологическнм аспектам искусства Средневековья. Среди глав книги: «Живопись катакомб: начала христианского искусства, «Идеализм и натурализм в готической скульптуре и живописи», «Питер Брейгель старший» и др. Книга впервые издается в полном составе.
АРКАДИЙ ИППОЛИТОВ
МАКС ДВОРЖАК История искусства как история духа
Пер. с нем. А. А. Сидорова, В. С. Сидоровой и А. К. Лепорка под общей редакцией А. К. Лепорка. СПб.: Академический проект, 2001. 336 с. Тираж 2000 экз. (Серия "Мир искусств")
Впервые русский перевод этой книги я прочел более двадцати лет тому назад, будучи первокурсником Ленинградского университета имени Жданова. Это было издание 1934 года, носящее гораздо более скромное название "Очерки по искусству средневековья", и Христос в нем печатался с маленькой буквы. Уже тогда оно было библиографической редкостью и, конечно же, в список рекомендованной программой литературы не входило. Книга произвела на меня огромное впечатление и по сравнению с текстами Дворжака все труды советского искусствоведения казались столь лживо-невразумительными, столь мелкими и ничтожными, что вызывали непреодолимое отвращение к окружающей искусствоведческой действительности.
Spoiler: Highlight to view
Личное впечатление от "Очерков по искусству средневековья" я могу сравнить только с впечатлением от "Ямы" Куприна, прочитанной десятью годами раньше и так меня поразившей в десятилетнем возрасте, что весь свет мне казался не мил, мирозданье уродливым, и я впал в глубокую меланхолию, бесконечно страдая от несовершенства человечества. Страдания были столь глубоки, что держать их в себе я не мог и поделился с собственной мамой, объяснившей мне, что мое состояние - это типичная подростковая мировая тоска и что все в моем возрасте ею болеют. Переживаниями по поводу Дворжака поделиться мне было не с кем, так как они только оскорбили бы моих преподавателей и сокурсников, поэтому пришлось с ними жить, что испортило характер, породило массу комплексов и стало причиной сильнейшей мизантропии, направленной на ту часть населения земного шара, что занимается искусствоведением. Особого увлечения Дворжаком я при этом не испытал, зачитываясь работами Панофского и полуподпольной тогда иконологией, но все время присутствовало ощущение, что книга Дворжака - основная профессиональная книга, что-то вроде "Войны и мира". Не то чтобы ее все время надо перечитывать или, тем более, на нее ссылаться, но она уже навеки присутствует в сознании и никуда от нее не деться, о чем бы ни думал. Поразила же она в первую очередь своей физиологической адекватностью любой затронутой теме, будь то Брейгель или катакомбная живопись. В дальнейшем искусствоведение сделало множество уточнений, многие выводы опровергло, обобщения перечеркнуло, но тем не менее эта книга никогда не уйдет в область историографии. Сегодня она, быть может, специалистам уже и не нужна, но быть специалистом в любой области без нее довольно трудно, как без прочтения все той же "Войны и мира". В противном случае все интересы будут сводиться к прочтению подписи и спорам по поводу правильности ссылки. Новое переиздание - прекрасный повод перечитать любимую книгу юности. Она сильно изменилась, стала толще - добавились отсутствовавшие в первом издании статьи об "Апокалипсисе" Дюрера и об Эль Греко, - изменила название - подлинное название труда Дворжака Сидоров посчитал слишком уж претенциозным - и обрела внушительную обложку с воспроизведением "Лаокоона" Эль Греко, - художника, в 1930-е годы чуждого советскому искусствоведению. Впечатление осталось все тем же, книга грандиозная. Очень трудный, перенасыщенный текст все время держит в напряжении, изматывая, утомляя, но и вознаграждая читателя. Как бы сейчас ни казались сомнительны страстная защита Дворжаком самостоятельности немецкого искусства XV века от нидерландских влияний или утверждение о знании Эль Греко искусства французского маньеризма, все эти неточности времени уходят на второй план перед ощущением абсолютной безошибочности целого. Воспринимать изобразительное искусство как явление духовного порядка по преимуществу и быть способным выдерживать разговор на этом уровне - удивительный дар. Сколь бы ни критична была современность к методу Дворжака, он оказался способен указать всему искусствоведению уровень мышления, которого, безусловно, придерживаться невозможно, но который должен присутствовать в сознании, иначе из этого искусствоведения получается безвкусная жвачка. Именно поэтому "Историю искусства как историю духа" так увлекательно перечитывать в начале третьего тысячелетия. Двадцать лет тому назад, в советской реальности, текст Дворжака приобретал особую остроту протеста против установки на посредственность, характерной для позднего периода истории советского духа. В издании 1934 года было что-то запретное, самиздатовское. Сегодня тот, кто прочтет ее впервые, вряд ли сможет это ощутить, время изменилось, хотя искусствознание, обретя свободу, стало не намного лучше. Тогда книга воспринималась как протест и была необычайно актуальна. Теперь же стало очевидным, что "История искусства как история духа" написана в первую очередь о Вене конца 1910-х годов, а не о Средневековье, маньеризме и не о советской действительности. Сознательный выбор Дворжаком для своей истории духа переломных моментов в истории искусства - раннехристианского искусства, поздней готики и маньеризма, под которым он понимает вторую половину XVI века - нужны ему для того, чтобы развернуть картину столкновения старого и нового, заостряя внимание на конфликтности исканий творческого духа, находящегося в вечной оппозиции миру реальному. История есть движение, движение же по сути своей антиклассично и революционно, поэтому эссе 1917 года "Начала христианского искусства" читается как оправдание событий в России и как трагическое ожидание их результата. Постоянное акцентирование развития духа в мировой истории подразумевает очень четко определенную его картину: духовные искания живописцев катакомб подготовили почву для средневекового спиритуализма, затем питавшего Шонгауэра, Дюрера и Эль Греко, расчистивших путь для барочного мистицизма. Из барокко, как цыпленок из яйца, проклюнулся Кокошка, и все поиски искусства раннего христианства, мистицизм поздней готики, итальянская одержимость Платоном и экстатическое визионерство Эль Греко были направлены на одно - на то, чтобы в Вене в начале XX века появилась пугающая и болезненная живопись, проникнутая нервозной чувственностью. Теперь же, в начале третьего тысячелетия, этот ряд легко продолжить. Нервозность Кокошки породила абстрактный экспрессионизм, затем перешла в венский акционизм и скандального Отто Мюля, чтобы аукнуться в Кулике и Бренере, с которыми Дворжак логично предполагает жить в мире и согласии, так как на данный момент именно они знаменуют собой очередную точку в развитии революционного движения Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. Хочется ли, чтобы ранние христианские художники преодолевали античную предметность, готика искала сверхреальную связь явлений, искусство на грани XIV и XV столетий превращало реальное бытие в художественную парафразу и маньеризм преодолевал мир через ощущение, только для того, чтобы Кулик трахался с собаками, а Бренер публично онанировал? А есть ли вообще у мирового духа история? Не была ли одержимость идеей развития временным умопомрачением человечества и, может быть, вообще лучше не говорить об эволюции, а просто констатировать некоторые изменения? Впрочем говорят, что Кулик занялся пейзажной живописью…
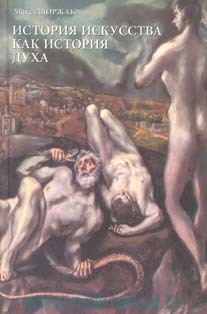
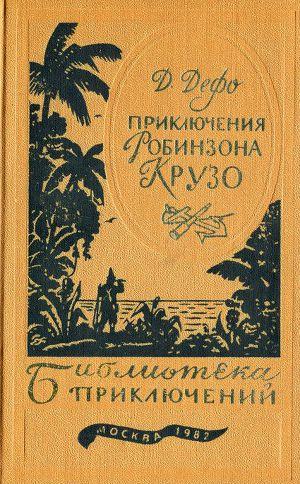

![В романе «Два капитана» В. Каверин красноречиво свидетельствует о том, что жизнь советских людей насыщена богатейшими событиями, что наше героическое время полно... Два капитана [с иллюстрациями]](https://www.rulit.me/data/programs/images/dva-kapitana-s-illyustraciyami_180347.jpg)
![«Свежий осенний ветер несся над простором подернутой рябью Невы. Острый шпиль Петропавловской крепости в блеске солнечного дня казался золотым лучом,... На краю Ойкумены. Звездные корабли [с иллюстрациями]](https://www.rulit.me/data/programs/images/na-krayu-ojkumeny-zvezdnye-korabli-s-illyustraciyami_167543.jpg)
![Английский писатель Уилки Коллинз – один из создателей детективного жанра. «Лунный камень» – самое знаменитое произведение Коллинза, лучший детективный роман в... Лунный камень [с иллюстрациями]](https://www.rulit.me/data/programs/images/lunnyj-kamen-s-illyustraciyami_167550.jpg)
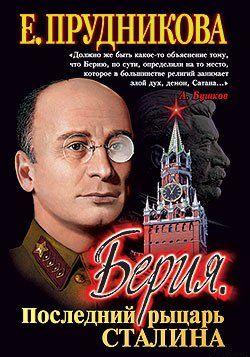


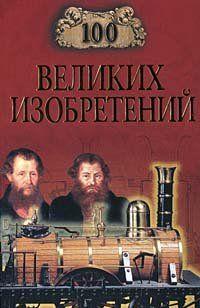

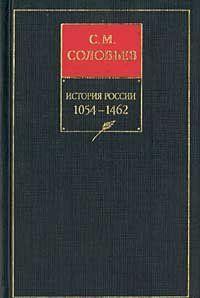

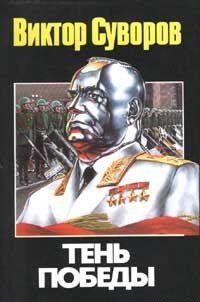




Комментарии к книге "История искусства как история духа"