
Аннотация
Следует говорить только тогда, когда не имеешь права молчать, и только о том, что уже победил; все остальное - болтовня, "литература" - недостаток выдержки. В моих сочинениях говорится только о моих победах, в них "я" являюсь со всем тем, что мне было враждебно, - ego ipsissimus, или даже, если мне позволено еще более гордое выражение, ego ipsissimum. Легко угадать, что подо мною уже многое. Но чтобы у меня с целью познания явилось впоследствии желание раскрывать, обнаруживать, "излагать" (назовите, как хотите) что-либо из мною испытанного и пережитого, какой-нибудь собственный поступок или удар судьбы всегда нужно было время, исцеление, даль, расстояние. В этом отношении все мои сочинения, за одним, правда, существенным исключением, должны быть помечены задним числом: в них всегда говорится о том, что я уже оставил "позади себя", а некоторые, как напр., три первые "Несвоевременные размышления" относятся ко времени, предшествовавшему даже зарождению и появлению раньше изданной книги (в данном случае, - "Происхождение трагедии", - что не могло остаться незамеченным проницательными наблюдателями и критиками).Во вспышке гнева на германофильство, на самодовольство и многоречивость тогда уже состарившегося Давида Штрауса (содержание первого "Несвоевременного размышления") высказалось настроение, которое я переживал гораздо раньше, еще студентом, среди немецкой образованности и филистерства образования (это выражение, которое теперь часто употребляют, но которым и злоупотребляют, создано мною). И то, что мною сказано о "болезни историей", я говорил как человек, который медленно и с трудом от нее излечивается, но не хочет совсем отречься от "истории" из-за того, что сам однажды страдал от нее.Затем, когда я в третьем "Несвоевременном размышлении" выражал свое благоговение перед первым и единственным своим учителем, великим Артуром Шопенгауэром, - теперь я выразил бы его гораздо сильнее и с более личным оттенком, - я сам уже был погружен в моралистический скептицизм и разгадку его, т. е. в критику и в то, чтоб придать больше глубины всему существующему пессимизму; и я уже "больше ни во что не верил", как говорит народ, не верил и в Шопенгауэра, и как раз в то время возник не изданный очерк: "Об истине и лжи во внеморальном смысле". Даже моя победная, торжественная речь в честь Рихарда Вагнера по случаю его байрейтского торжества в 1876 году, - (Байрейт знаменует высшую победу, когда-либо одержанную художником), носившая самый сильный отпечаток "современности" в ту минуту, была в сущности выражением почтения и благодарности отрывку из моего прошлого, самому прекрасному, но и самому опасному затишью во время моего плаванья, ...стало быть в сущности разрывом, прощанием. (Может быть, в этом отношении обманывался и сам Рихард Вагнер? Не думаю. Таких картин нельзя рисовать, пока любишь; тогда еще не "наблюдаешь", не становишься в отдалении, как это необходимо для наблюдения. "В наблюдение уже входит таинственная враждебность двух противников, осматривающих друг друга, смотри 46 страницу вышеупомянутого труда, вместе с предательским и грустным обращением, понятным, вероятно, для очень немногих"). Спокойствие, необходимое для того, чтобы "я мог" говорить о длинных промежуточных годах самого сосредоточенного одиночества и отречения, впервые явилось ко мне, когда я писал "Человеческое, слишком человеческое", которому посвящается и эта вторая защитительная речь и это второе предисловие. От этой книги "для свободных духов" веет почти весельем и холодом любопытства, с которым психолог еще раз останавливает и как бы прикалывает острием иглы то, что он оставил под собой, позади себя. Что же удивительного, если при такой щекотливой, колючей работе иногда вдруг брызнет кровь, если кровь окажется на пальцах психолога, и не всегда только на пальцах?

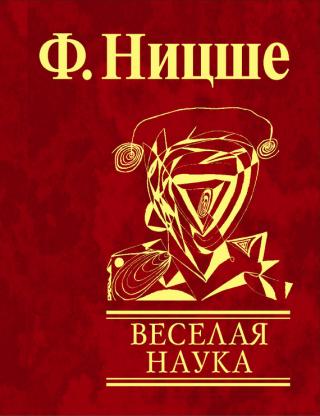
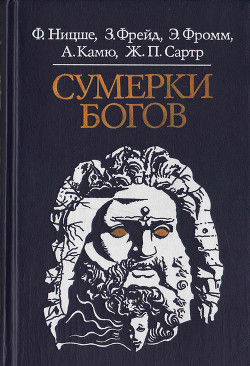
![В настоящем издании вниманию читателей предлагается важная этапная работа «По ту сторону добра и зла», которая предваряет заключительный, наиболее интенсивный... По ту сторону добра и зла [litres]](https://www.rulit.me/data/programs/images/po-tu-storonu-dobra-i-zla-litres_788965.jpg)

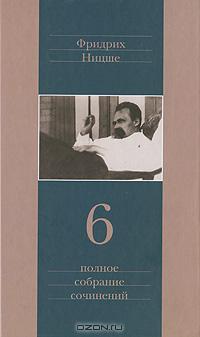
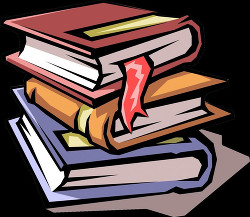
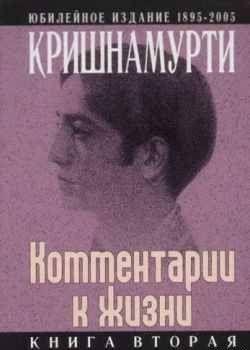



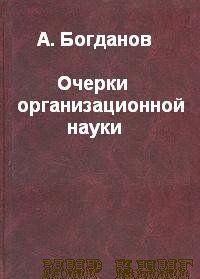
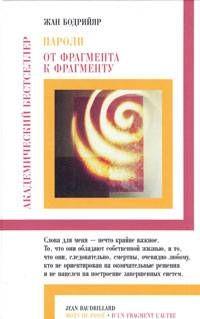

Комментарии к книге "Смешанные мнения и изречения"